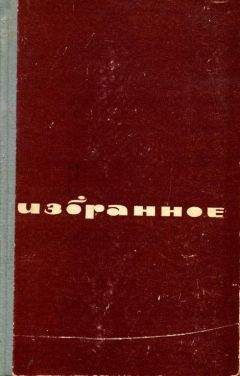— Э-э, — рассмеялся Абызов. — Ты на себя посмотри, душа моя. Чистый комиссаришка!
И они расхохотались.
— А эти — кто? — показал Миробицкий глазами на полдесятка оборванных парней, грудившихся неподалеку.
— Православные, — продолжая улыбаться, пробасил Абызов. — От розовых сбегли, от ихней армии.
Есаул потащил Дементия в землянку, усадил на нары, сказал, наливая кружку теплой воды и подвигая кусок хлеба:
— Ешь, Дема. Охудал больно. Не у красных прохлаждался?
— У них. Сбежал.
— Понятно. А сейчас?
— В родные места.
— Зачем?
Миробицкий искоса посмотрел на землистое отекшее лицо есаула, пожал плечами.
Абызов нехотя пожевал корку, покатал в грязных ладонях крошки хлеба, буркнул, вздохнув:
— Не советую, Дема.
— Что? — не понял его Миробицкий.
— Не советую, — повторил Абызов. — Теперь тихо жить надо. Ждать. Силешек мало. Может, на юге или западе что выйдет. Тогда и мы ударим.
— Я ждать не буду, — жадно глотая хлеб, кинул Миробицкий. — Некогда мне ждать, есаул.
— Ого! — ухмыльнулся Абызов. — Завидую. Молод ты, и огня в тебе, как в печке-чугунке: по самую трубу. Ну-ну, смотри.
Он с печальной улыбкой поглядел на сотника, поинтересовался:
— Куда пойдешь?
— В Еткульскую. Может, сыщутся там стоющие казаки.
— Брось, Демка! — махнул рукой Абызов. — Сиди с нами. А там видно будет.
— Спасибо на угощении, — хмуровато отозвался Миробицкий. — Прощай, Аркадий Евсеич.
— До свидания, Дементий, — подал руку Абызов. — Не сердись, — у меня, сам знаешь, ребятишков куча. Неохота на шею себе петлю накидывать.
Шагая лесом, Миробицкий с удивлением и печалью думал о есауле. Когда-то лихой офицер, рвавшийся к подвигам, казак этот теперь превратился в скотину, и все его заботы — лишь о своей шкуре. И еще Миробицкий думал о странном языке Абызова: в его словаре мирно уживались и чисто книжные, и станичные словечки.
«А мой? — про себя усмехнулся сотник. — Мой язык лучше, что ли?».
Уже перед самым Еткулем Дементий заколебался: «Не угожу ли из огня в полымя? Станичная голь может выдать властям, и меня пристрелят, даже не вывозя в Челябинск. Скажут потом: пытался бежать, сукин сын!»
И в последнюю секунду, чувствуя отчаянную усталость и злость, сотник все же решил идти на Каратабан. Дальше, но зато спокойнее. Там, по крайности, можно будет хоть отоспаться у знакомой бабенки — той, что когда-то отдала ему шапку и сапоги пропавшего без вести мужа.
Поздней ночью сотник дотащил наконец ноги до крайних дворов Каратабана, нашел нужный дом и, оглядевшись, коротко постучал в окно.
Никто не ответил.
Миробицкий постучал еще.
Снова была тишина, но край занавески на один миг уплыл в сторону, мелькнули и растаяли неясные черты липа.
— Открой, Настя! Я это.
— Демушка, господи! — тускло прозвучало из-за двойного стекла, и Миробицкий услышал топот босых ног.
Дверь хлопнула, и на груди сотника повисла женщина. Длинные черные косы казачки почти касались стройных ног, и она, не опуская шеи Дементия, бессчетно целовала его потное, заросшее лицо.
— Ну, ну, потом, — устало сказал Миробицкий. — Не терпится тебе, дура!
— Входите, Дементий Лукич, — весело пропела женщина, не обратив никакого внимания на грубость. — Вот радость!
Войдя в дом, сотник велел закрыть дверь на засов и никому не открывать.
И тут же, не раздеваясь и не скидывая сапог, повалился на кровать.
* * *
Сотрудник губернской чека Гришка Зимних третий день являлся на работу в лаптях. Добро бы это были еще новые крепкие лапти! Мало ли что в те буйные годы носили на своем теле и ногах люди! Может, у человека порвались сапоги или ботинки, замены нет — тут хочешь не хочешь — наденешь деревенские самоплетенки.
Сотрудники губчека беззлобно подсмеивались над Гришкой, величая его то «дедом», то «господином казаком». Для этого у них были все основания, так как Зимних щеголял не только в лаптях, но и добыл себе затрепанный казачий мундир явно довоенного выпуска. Мундир и лапти — это действительно казалось смешно.
И еще Гришка отращивал бороду, хотя никаких ощутимых успехов не имел: волосы росли редко и через них пробивался мальчишеский румянец.
У Гриши Зимних не было ни жены, ни родственников, ни девчонки, в которую можно влюбиться, и весь пыл своих девятнадцати лет сотрудник чека отдавал делу мировой революции. Он поклялся сам себе бить без страха и сомнения обнаглевших до крайности хищников как российского, так и всесветного капитала.
Нет, Гришка не был постным человеком. Напротив, любил жизнь, был не дурак выпить и потанцевать с девочками, но контра мешала республике ковать новую жизнь, и коммунист Зимних понимал свой долг.
К чести Гриши надо сказать, что он вполне разбирался в политике, ибо регулярно читал газеты — и губернскую «Советскую правду», и «Борьбу», выходившую в Златоусте, и троицкий «Трудовой набат». Особое удовольствие доставлял молодому человеку «Красный стрелок» — орган 5-й армии Восточного фронта. От пепельных полуслепых букв газеты попахивало сгоревшим порохом, неслись с ее желто-серых шершавых страниц залпы конных батарей, звон сшибленных сабель и штурмовая дробь кавалерии.
Поэтому мы не поставим Грише Зимних в вину, что иногда он изъяснялся пламенным и немножко наивным языком газет своего времени.
Когда Гришку принимали в губчека, он объяснил международную обстановку и заявил:
— Посему прошу зачислить в чека и располагать мною по усмотрению товарища Ленина и всего пролетарского человечества.
Гришка научился жить в седле, гоняясь за вооруженным кулачьем, перестреливался с дезертирами, устраивал налеты на самогонщиков.
И никто даже не удивился, что этот невысокий стройный парень с голубоватыми холодными глазами, пришедший в чрезвычайку из железнодорожных мастерских, оказался бесстрашен в деле. Пристальный взгляд не мешал Грише весело улыбаться, и тогда все видели совершенно мальчишечьи ямочки на его щеках.
В конце апреля двадцатого года Гриша проводил политработу в продовольственных полках, затем, в июне, мотался по всей губернии, помогая комдезам[54]: шла Неделя добровольной явки дезертиров. Коротко говоря, Зимних, помимо прямых служебных обязанностей, выполнял разные поручения губкома партии и гордился этим.
В начале августа Гриша вместе с троицкими чекистами накрыл в их городе логово контрреволюции, где скопилось множество бывших царских офицеров и кулаков. Неизвестный генералишка, тощий и злой, во время ареста влепил Гришке пулю в шею, и Зимних с тех пор не очень ловко крутил головой.